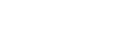Бывшей киевской учительнице Софии Григорьевне Яровой 89 лет. Она сама готовит, ухаживает за домом и содержит питомца — пятилетнего кота Котю. В свободное время пишет мемуары. Их обещал опубликовать ее бывший ученик Леонид Ларин. Но эта женщина не простая — она одна из пятнадцати Праведников народов мира (так называют людей, которые спасали евреев во времена Второй мировой войны), которые живут в Киеве. В 1941-м София и ее мама, рискуя своими жизнями, выводили из города евреев, помогали им спастись от гонений и неминуемого расстрела в Бабьем Яру.
«Взгляд» не берется судить эту историю — правильная эта точка зрения или нет. Это просто рассказ от первого лица о том, как одна 16-летняя девочка жила в Киеве во времена его оккупации немцами.
Неудачный день рождения. 18 сентября у меня был день рождения — исполнялось 16 лет. И в эту ночь войска СССР покинули город, а я ничего не знала. И помню, как я стою перед зеркалом, придумываю, какую мне прическу сделать себе на вечер. Заходит папа, кладет на стол несколько кусков мыла и говорит, что не сможет остаться на праздник — в Золотоноше высадился немецкий десант, и их взвод отправляют за Днепр. И вдруг папа поцеловал меня. А у нас в семье это не было заведено. Я сразу поняла, что что-то не так. Разыскала маму, и мы бросились в часть к отцу. А там они уже стояли все построенные. И мы поняли — советские войска покидают столицу. В 12 дня они ушли, а в час — взорвали цепной Николаевский мост через Днепр. А на следующий день в город зашли немцы.
Хлебом-солью. Наш сосед, Трохим Бондаренко, встречал немцев хлебом-солью. Мама боялась, что он сдаст нас захватчикам. В первую же ночь, 20 сентября, часа в 4 утра, Трохим зашел к нам весь в слезах. Его супругу изнасиловал пьяный немец, а когда ушел, то забыл документы. Моя мама, которую все называли Бойчиха, взяла бумаги и пошла в школу №130, где был штаб немцев, заявлять на насильника. Ей пообещали, что его расстреляют
О грамотности населения. Моя мама была неграмотна, но в конце 20-х выучила алфавит. Она писала письма, но не все их могли прочитать. Однажды она отправила брату на фронт послание, так он прислал его мне и попросил расшифровать, что там написано, чтобы он знал, что ответить маме. А я понимала ход ее мыслей и могла из этих сплошных строчек из печатных букв составить предложения.
...прямо возле моей ноги из воды было видно лицо человека. Такое светлое, красивое, молодое. С бородкой, как у Щорса. И водичка так переливается, и волосы колышутся...
О красивой смерти. 24 сентября мы получили записку от отца, что он находится в лагере для пленных в Дарнице. Чтобы попасть к нему, нужно было перебраться через Днепр и пройти по Русановскому мосту. Он был сломан посередине и уходил под воду. Но на этот участок положили доски, и можно было пройти по ним. Я никогда не забуду, как мы с мамой возвращались от отца, и прямо возле моей ноги из воды было видно лицо человека. Такое светлое, красивое, молодое. С бородкой, как у Щорса. И водичка так переливается, и волосы колышутся... (голос Софии Григорьевны умолк, она долго не могла продолжать разговор, сдерживая слезы - Прим. ред).
О благодарности. Папу мы выкупили. По приказу немцев украинцев отпускали. Но нужно было письмо, что папа не коммунист и не еврей. Первым подписался тот самый Трохим Бондаренко, который хлебосольно встречал немцев. Хоть он и знал, что папа коммунист. Папа на фронт не пошел — мама отвела его к своей сестре в село под Киевом, где он прожил до марта 1943 года. Там он ремонтировал обувь.

О расстрелах. Маминого брата дядю Петю, который был санитаром в лагере, послали закапывать евреев в первый же день расправы в Бабьем Яру — 29 сентября. Он мне тогда говорил: «Сонечка, расстреливали евреев украинцы, а не немцы». Существует даже документальное подтверждение — приказ немецкого полковника, согласно которому немцам запрещали расстреливать евреев. Расправу сделали подонки из Буковинского куреня. Немцы были только на охране.
Об интеллигенции. С самым необходимым нас выручали мадьяры. Они торговали на базаре. Ну как торговали — марки хоть и ходили, но ценности в них не было. Царил бартер. Они привозили соду, соль, спички, папиросы. Интеллигенция выменивала продукты на все, что у них было ценного, вплоть до золота. Но и оно закончилось. И начался мор, голод среди интеллигенции, особенно зимой и весной 1942 года — они не умели себя прокормить. А простые люди крутились.
Каждый день нас кормили: кашей, ужасно грязной, наполовину с мышиным пометом...
О страхе уехать. 2 марта 1942 года мне пришла повестка, что надо прийти на управу на Димитровской. Там нам что-то говорили, но мы ничего не понимали. И решили, что нас отправляют в Германию, ведь нас направили прямиком на вокзал. А там нас встретил пан Лесовски, поляк. Он по-русски объяснил, что отныне мы являемся рабочими немецкой фирмы, которая занимается ремонтом и строительством железнодорожных путей. Мы работали пять дней и в субботу до часу дня. В конце недели нам давали полбуханки хлеба и зарплату марками. Но за эти деньги можно было купить разве что оловянное колечко. Каждый день нас кормили: кашей, ужасно грязной, наполовину с мышиным пометом. Но оттуда не забирали в Германию — и это было бесценно.
О подполье. Позже нас перевели работать на Центральный железнодорожный вокзал. И там появился дядя Вася. Скорее всего, он был подпольщиком. Вокруг вокзала был забор, в котором имелись лазейки: доски отодвигались вбок, и можно было беспрепятственно пройти в сторону Соломенки. Когда приходил поезд с эшелонами на Германию, откуда многие умудрялись бежать, нашей задачей было быстренько проводить их к этим проходам и пропустить.
О помощи. В июле 1942 года пришел состав с военнопленными. Он был полностью закручен — не вылезти. И оттуда солдат просит: «Ребята, дайте каплю водички, командир умирает». И бросил флягу. Я набрала воду и начала бежать к поезду — а он тронулся. В последнюю секунду я успела отдать флягу солдату и тут попала ногой в бочку с водой, закопанную в землю. Я ногу ободрала до кости. Немцы, которые нас охраняли, расстреливать нас не стали за это. Но когда увидели, что у меня с ногой, начали неистово хохотать. А я подняла голову и гордо, превозмогая боль и обиду, прошла мимо.
О материнской любви. В 1942 из эвакуации вернулась тетя Таня, наша соседка-еврейка, с двумя детьми — Майей и Аликом. Ее спрятали в сарае, чтобы никто не увидел. Алик, которому было 2,5 года, начал плакать. Тетя Таня закрыла ему рот, потому что рядом был ненадежный человек, нельзя было чтобы их услышали. И Майка спрашивает: «Мама, что ты делаешь, он же умрет». А она отвечает: «Он умрет, но может хоть ты останешься жива».
О спасении. Алик выжил. Я должна была отвести всех троих за 20 км, в Рославичи, где жили наши родственники. Мы взяли всякое добро, которое можно было обменять. И мама сказала тете Тане: «Если вдруг что на дороге произойдет — ты Софию не знаешь. Если вас остановят, то Соня идет дальше, а вы уже как есть». Но мы дошли успешно.
О великодушии. Неподалеку от нас жила еврейка Соня с двумя детками. Она не пошла по приказу в Бабий Яр, а соседи ее не выдали. Но в их доме была управдомша, из босячек, в обязанности которой входило сдавать евреев. В январе 1942 года эта девка отвела Соню с малышами в районную комендатуру, которая находилась за современной опереттой. На вахте стоял немолодой немец. Он глянул на деток, подошел к этой управдомше и как зарядил ей такой пинок, что она кубарем покатилась в снег. А Соне говорит «Матка, уходи домой. Уходи!». А потом моя мама помогла достать Соне документ, что она украинка.

О провокаторах. Была у нас на работе одна девушка — русская, наша, Валька Бомба. Мы договаривались, что я приведу ей восемь человек для партизанского отряда. Но меня судьба хранила. У нее дома я увидела на стене рамку с множеством фото. И на одном из фото узнала человека: русского, который недалеко от моего дома провоцировал людей, переодевшись в немецкую форму. Но я умная. Прежде чем спросить, кто это, я разузнала у Вали о людях с других фото, а потом только задала вопрос об этом мужчине. А она ответила: «Друг». Я, конечно, на встречу не пошла. На следующий день у нас дома уже были эсэсовцы. Но мама сказала, что я ушла на обменку и не вернулась. А я пряталась за буфетом в квартире у соседки, у которой муж был репрессирован. Поэтому к ней немцы не появлялись. Там я провела полгода.
...нас поймали 25 октября, за 13 дней до освобождения Киева, и повели на расстрел: меня, младшего брата, маму и двоих соседей...
О спасительной силе водки. Ближе к освобождению мы разжились продуктами, мукой, и нагнали 50 литров водки. В это время выдали приказ, чтобы все уезжали из города: советские войска подошли слишком близко. Никто не послушался — люди прятались по домам, ждали освобождения. Но нас поймали 25 октября, за 13 дней до освобождения Киева, и повели на расстрел: меня, младшего брата, маму и двоих соседей. По противоположной стороне дороги шли два пьяных немца-фронтовика и кричали: «Где шнапс (водка)?», а моя мама как заорет: «Пан, есть шнапс». Эсэсовец начал бить ее, но она не унималась и все кричала эту фразу. Фронтовики подошли и начали требовать, чтобы нас отпустили, угрожая провожатым автоматами. Вы бы видели, как нас встречал весь двор — они выставили две сулеи водки фронтовикам. Немцы были довольны и кричали «Гитлер капут!»
Об освобождении. Этим же вечером нам удалось сбежать из города к родственникам в Рославичи. Оттуда мы наблюдали как 5 ноября горел Киев, 6-го через наше село бежали несколько десятков немцев, и мы очень испугались. А утром 7 ноября папа встает и говорит: «Поздравляю вас с днем освобождения Киева», а мама ему: «Тьфу на тебя, не сглазь!». В обед я пошла брать воду и вижу наших солдат. Они подходят и говорят: «Ну что, красавица, рада нас видеть?». А я им ответить ничего не могу — я была не то что рада, а онемела от счастья.
О возвращении домой. Уже 8 ноября мы поехали назад в Киев. Нашли заброшенную машину и на ней отправились в путь. Вдоль дороги все было просто усеяно голыми трупами немецких солдат. Их раздели люди, которым было нечего носить. По дороге шли колонны советских солдат, поэтому нам пришлось ехать по обочине. Помню, как мы наехали на труп немца и его голова превратилась в блин. Я три года после этого не могла есть мясо.